Почему Сальери отравил Моцарта и о чем на самом деле написал Пушкин?
Великие тексты отличаются от все прочих, в частности, тем, что в них, если так можно выразиться, на каждый «сантиметр» приходится колоссальный объем смысла и информации. Поэтому читать их следует не просто медленно, а сверхмедленно и желательно с карандашом, ибо каждую потраченную на чтение частицу времени великий текст всегда окупает. Как ни заглубляйся в подобные тексты, а они все равно, подобно бездонному колодцу истории, о котором писал Томас Манн, открывают внимательному читателю все новые и новые пласты смысла и всемирной культуры, неотъемлемой частью которой они являются.
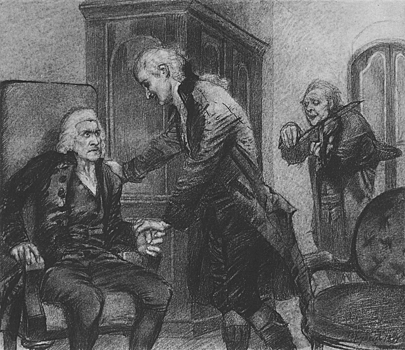
Авторов таких текстов за всю историю человечества, на самом деле, не так уж и много. Их в любом случае не сотни, а максимум десятки. Разницу между ними и всеми прочими прекрасно ощущал наш великий критик Виссарион Белинский. В своей знаменитой статье «Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» он жестко проводит грань между Шекспиром и литературой французского классицизма:
«Вот, например, Корнель, Расин, Мольер, Вольтер, Гюго, Дюма — это другое дело: об них мы, не задумываясь, скажем, что они, может быть, отличные, превосходные литераторы, стихотворцы, искусники, риторы, декламаторы, фразёры; но вместе с тем мы, не задумываясь же, скажем, что они и не художники, не поэты, но что их невинно оклеветали художниками и поэтами люди, которые лишены от природы чувства изящного…»
Конечно, тут молодой Белинский, которому на момент написания этой статьи было всего лишь 26 лет, проводит эту грань слишком жестко. И если ей следовать до конца, то в поэты и художники нам придется записывать только великих гениев, а всех остальных называть иначе. С этим сложно согласиться, но грань Белинский чувствует превосходно, и тут дело отнюдь не в его личных вкусах.
Вот, скажем, Мольер. В своих знаменитых комедиях «Мещанин во дворянстве» и «Мнимый больной» он вполне очевидно рассматривает процесс выхода на историческую сцену нового класса — буржуазии. Будучи очень образованным человеком, великолепно знавшим древнюю литературу, Мольер, конечно же, знал о римских сатурналиях, лежащих в основе средневековых карнавалов. Обе эти комедии заканчиваются подобными карнавалами. Поэтому мы можем спросить: «Господин Мольер, правильно ли мы понимаем, что у нового буржуазного класса, в отличие от тех, на смену которым он приходит, за душой ничего нет? Что он в смысловом плане пуст, а там, где смысловая пустота, там и карнавал, то есть царство антисмысла?» Такие вопросы вполне правомочны к текстам Мольера, однако на этот счет сами его тексты молчат. Они не говорят ни «нет» ни «да». Может, нам что-то показалось, а может, и нет.
В самом деле, как произведение ни напиши, оно всегда будет отсылать к культурному контексту. Но великий гений отличается от всех прочих тем, что он не только «бурит» скважину в глубочайшие бездны культуры и истории, но и решает и ставит вопросы на уровне глубины этой бездонности. Внимательный же читатель всегда имеет возможность это обнаружить, а великий текст всегда ответит ему вполне определенное «да».
В отличие от Мольера, у Шекспира эти глубины присутствуют не только осознанно, но и являются следующим, высшим этажом всего того, что происходит в «Гамлете». Весь этот «этаж» у Шекспира неразрывно связан со всеми нижними этажами вплоть до бытовых и сам является неотъемлемой частью всего действия. Поэтому, как бы читатель ни заглублялся в текст, на любом уровне глубины его всегда встретит Шекспир, для того чтобы повести еще глубже. Уровень же той глубины, до которой может дойти вместе с Шекспиром читатель, зависит не столько от первого, сколько от желания, терпения и мужества последнего…
В концовке «Гамлета» от отравленной рапиры погибают Лаэрт и Гамлет, а от яда в кубке погибает королева. Между раненым Гамлетом и умирающим Лаэртом происходит следующий диалог:
«Лаэрт:
Искать недалеко. Ты умерщвлен, и нет тебе спасенья. Всей жизни у тебя на полчаса. Улики пред тобой. Рапира эта Отравлена и с голым острием. Я гибну сам за подлость и не встану. Нет королевы. Больше не могу… Всему король, король всему виновник!
Гамлет:
Как, и рапира с ядом? Так ступай, Отравленная сталь, по назначенью»!
На первом уровне Лаэрт просто сообщает Гамлету о том, что рапира отравлена, а виновником всех бед является король. На втором уровне мы обнаруживаем, что концепция, согласно которой козни злодея всегда в итоге должны быть направлены против него же самого, проходит сквозной нитью через все произведение, и потому слова — «Так ступай, отравленная сталь, по назначенью» — обретают дополнительную глубину. Причем наличие этой глубины опять же можно неопровержимо доказать самим текстом. А вот на третьем уровне мы обнаруживаем ту метафизическую сущность, которая двигала Клавдием и отравила своим ядом самое время. Эта сущность — Геката. И это тоже прописано Шекспиром! А потом мы видим, что на протяжении всего произведения Гамлет боролся именно с этой сущностью и ее пособниками и пособницами, а далее понимаем, что Шекспир противопоставил этой сущности какую-то иную, представленную призраком отца Гамлета. А через это мы уже начинаем выходить на фундаментальный конфликт истории и игры, а также на его детализацию и еще более глубокие уровни проблемы человеческого бытия. И вся эта цепочка, которую я тут вкратце описываю, доказывается самим текстом Шекспира. Каждый ее уровень не только прописан, но и исследован в самом тексте, который объединяет все эти уровни в одно великое целое, которое Шекспир назвал «Гамлет».
Мольер всего этого не прописывает и не исследует, так что Белинский, хотя и несколько грубоват, но в целом совершенно прав. Шекспир — это классика, а Мольер, на ряду со всеми перечисленными Белинским авторами, — это классицизм. Поэтому, когда мы произносим слова «классическая литература», мы должны иметь ввиду не столько нечто устоявшееся, сколько определенный уровень и глубину текстов.
В этом смысле бесспорной классикой является маленькая трагедия Пушкина «Моцарт и Сальери». В этом небольшом произведении наш великий соотечественник умудрился, по сути, раскрыть почти ту же проблему, которая была поставлена в «Гамлете». Ведь Моцарт должен был быть отравлен Сальери ровно по той же фундаментальной причине, по которой Клавдий хотел убить Гамлета, когда отсылал его в Англию. И все это наглядно видно, если, конечно, мы хотим подняться на соответствующий уровень и не будем думать, что Клавдий хотел убить Гамлета только потому, что опасался раскрытия своего преступления, а Сальери — просто потому, что завидовал Моцарту — все это так, но только на первом, бытовом уровне…
Такую, отнюдь не бытовую, причину отравления Моцарта обсуждал наш отечественный философ и филолог Александр Львович Доброхотов в беседе с Ксенией Голубович и философом Андреем Парамоновым 14 июня 2017 года. В ней Доброхотов сказал следующее:
«Пушкин, кстати, хорошо определил проблему Моцарта и Сальери. То есть Сальери, конечно… Он нехороший, но Моцарт еще хуже. Потому что вот он — антикультурная сила. Понимаете? Он показал, что можно вырваться в другой мир, и показал, что научиться этому нельзя. Но это конец культуре, конечно, уже. И Сальери понимает, что если мы хотим звенья этой цепочки соединить, то Моцарта надо ликвидировать, конечно, как силу разрушительную. Вот эти гении во многом как бы эпоху, собственно, уже и сломали, показав возможность иного. Как бы вот такую, не вытекающую из логики этого времени».
Конечно, я глубоко не согласен с такой оценкой Моцарта и ролью гениальности вообще. Надеюсь, что и читатель тоже глубоко возмущен этой оценкой. Однако само содержание и логика высказывания Александра Львовича заслуживает внимания, тем более что она полностью соответствует логике самого Сальери, который говорит следующее:
«Нет! не могу противиться я доле
Судьбе моей: я избран, чтоб его
Остановить — не то мы все погибли,
Мы все, жрецы, служители музыки,
Не я один с моей глухою славой…
Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет;
Оно падет опять, как он исчезнет:
Наследника нам не оставит он.
Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше».
Доброхотов, он же, читай, Сальери, обвиняет Моцарта в том, что он, если так можно выразиться, антисистемный элемент, который находится в ином пространстве нежели все остальные, куда доступ для других якобы закрыт. Но по аналогичной же причине Клавдий хочет убить или как минимум удалить Гамлета из Дании. Шекспир очень точно прописывает, что Гамлет является чуть ли не единственным человеком во всем королевстве, который, в отличие от остальных, не является «флейтой», на которой можно легко играть. Гамлет — непросчитываемый элемент, потому что обладает подлинной жизнью, и именно это не устраивает Клавдия и его властную систему, вне зависимости от того, умышляет что-то против нее Гамлет или нет. Собственно, сама «непрозрачность» Гамлета — это и есть уже вызов. В качестве носителей живого, непросчитываемого начала, Гамлет и Моцарт — враги культурной и властной системы. Какой?
Шекспировские Клавдий и Макбет находятся в целом в одинаковом положении — оба они находятся под властью Гекаты и ее ведьм. Будучи людьми еще не столь далекими от средневековых норм, как пушкинский Сальери, они пытаются молиться, но не могут. Сальери же просто констатирует в самом начале произведения:
«Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет и — выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма».
Это бытие в отсутствие метафизического верха, высшей правды. Но это не значит, что метафизика отсутствует в принципе, это значит, что место смысла занимает то, что с глубокой древности олицетворяли богиня Геката и ее дочь Медея, она же — Великая свинья, пожирающая собственных детей. А какая метафизика, такая и модель творчества, которую Сальери и излагает:
«Отверг я рано праздные забавы;
Науки, чуждые музыке, были
Постылы мне; упрямо и надменно
От них отрекся я и предался
Одной музыке. Труден первый шаг
И скучен первый путь. Преодолел
Я ранние невзгоды. Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты.
Я стал творить; но в тишине, но в тайне,
Не смея помышлять еще о славе.
Нередко, просидев в безмолвной келье
Два, три дня, позабыв и сон и пищу,
Вкусив восторг и слез вдохновенья,
Я жег мой труд и холодно смотрел,
Как мысль моя и звуки, мной рожденны,
Пылая, с легким дымом исчезали».
Сальери не творец — он игрок, который лишен целостности. С самого начала он «упрямо и надменно» отрекся от всего, что не касается музыки — это называется специализация. Потом он поставил ремесло «подножием искусству». Его персты приобрели не абы какую, а именно «сухую» беглость. Далее, он «умертвил» звуки, разъял музыку, «как труп», и поверил гармонию алгеброй. И только потом «дерзнул предаться неге творческой мечты». Сначала музыка разбирается на мертвые составные части, а потом начинается игра этими мертвыми частями — вот в чем творческий принцип Сальери.
Но далее Сальери говорит, что он, подобно богу Сатурну или свинье, пожирал своих детей, то есть сжигал свои произведения. И именно в этом состоит причина его ненависти к слепому скрипачу, которого к нему привел Моцарт. После того как Моцарт продемонстрировал свое новое гениальное произведение, Сальери возмущается следующим образом:
«С, а л ь е р и
Ты с этим шел ко мне
И мог остановиться у трактира
И слушать скрыпача слепого! — Боже!
Ты, Моцарт, недостоин сам себя.
М о ц, а р т
Что ж, хорошо?
С, а л ь е р и
Какая глубина!
Какая смелость и какая стройность!
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь;
Я знаю, я.
М о ц, а р т
Ба! право? может быть…
Но божество мое проголодалось».
Сальери — это супер машина рефлексии, почти компьютер. Она, в отличие от Моцарта, знает, что он «бог», и при этом глубоко оскорблена тем, что слепой скрипач посмел играть на публике то, что показывать недостойно. Ведь Сальери-то, будучи очевидно гораздо более мастеровитым музыкантом, чем слепой скрипач, на первом этапе творчества (а на самом деле игры) сжигал свои произведения. Слепой же скрипач посмел их отдать на суд публике, а Моцарт над этим — весело смеяться.
Ненависть Сальери абсолютно понятна. Как понятно и то, что такое противоположное отношение к игре слепого скрипача является следствием фундаментальных различий творческих подходов Моцарта и Сальери, которые Пушкин противопоставляет. Ведь совершенно очевидно, что Моцарт во всем противоположен Сальери, хотя и на словах вроде бы с ним согласен. Он любит жизнь, а музыка для него — лишь одна из ее граней. Моцарт никогда бы не стал сжигать свои произведения, а если бы не был гением, то, очевидно, подобно слепому скрипачу, играл бы как умеет.
Так как Моцарт почти лишен рефлексии, он не мог бы так стройно, как Сальери, изложить свои творческие принципы. Поэтому Пушкин показывает отношение Моцарта к искусству через его характер, поступки и взаимоотношения. И именно это живое, целостное отношение к искусству позволяет Моцарту выйти за рамки системы Сальери. Как может оно позволить выйти за рамки и слепому скрипачу, если бы он обладал должным талантом, трудолюбием и ему бы помогал хороший учитель. Именно этого массового выхода за алгебраические «флажки» по-настоящему боится Сальери, ибо он, в этом случае, останется не у дел. Сальери является гением только в определенных рамках и потому совместим со злодейством, но если музыка, а еще шире — человечество преодолеет эти рамки, то гениями смогут быть только Моцарты, которые не боятся быть смешными и со злодейством несовместимы.
Таким образом, Пушкин ставил вопрос о возможности альтернативных моделей творчества, которые смогут преодолеть разделение труда и олицетворяемый Сальери барьер «конца истории» — вечной игры. То есть тот вопрос, который спустя некоторое время начал решать Карл Маркс, а потом и вся Россия после 1917 года…