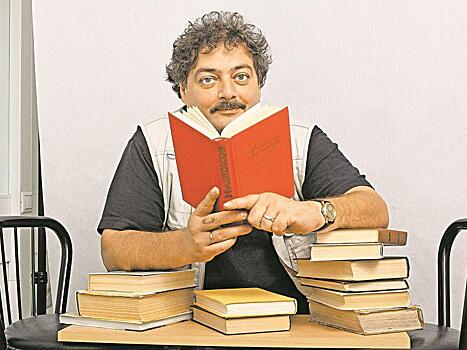Книга, автор и герой июня: литературный обзор от Дмитрия Быкова
Представленные здесь книги – июньский выбор писателя, публициста, креативного редактора «Собеседника» Дмитрия Быкова. Чем же привлекли внимание их авторы и герои? книга Роман о 80-х: дух времени передан почти безупречно Александр Архангельский. Бюро проверки Роман критика, литературоведа, телеведущего, а в ранней юности – поэта о 1980 годе, когда ему было 18, а его герою – 25. Герой – аспирант, богоискатель, он сознательно воздерживается от сексуальных контактов до брака (только целуется, хотя девушка очень не прочь), переписывается со своим духовным отцом и перенимает знания и опыт у научного руководителя, типичного позднесоветского интеллигента с червоточиной. Произведение по-своему замечательное, хотя главный интерес совсем не в интриге (которая заявлена, но самого автора, видимо, интересует в последнюю очередь). Интересен дух времени, переданный почти безупречно: оно у Архангельского и вязкое, и медленное, и все-таки сладостное, как всякое позднее лето. Быт скуден, любое нововведение вроде колбасы в вакуумных упаковках воспринимается как дар судьбы – и все-таки тогда каждая мелочь вроде пива с креветками в баре или даже стакана газировки с сиропом воспринималась как праздник. Абсолютно точно переданы и типажи тех времен, в особенности околоцерковные: вера была тогда вовсе не экзотикой, а массовым поветрием, только верили кто во что горазд – кто в Рерихов, кто в экстрасенсов; вокруг православия хватало своих фанатиков, безумцев и неофитов, и Архангельский живописует их язвительно и точно – хотя далеко не так желчно, как, скажем, Владимир Кормер в «Наследстве», написанном в те годы. Но в романе Кормера обаятельных героев почти нет, а у Архангельского все по-своему милы. Одна у меня претензия к этой книге – я не понимаю, с чего герой, собственно, ищет Бога. В те времена уверовать было легче, нежели теперь: нынешнее время плоско, как асфальт, и возможность чуда не просматривается – разве что Бабченко воскреснет; тогда же возможностью чуда веяло отовсюду, метафизический сквозняк подувал во все щели все более дырявой советской реальности, видна была волшебная изнанка бытия – может быть, потому, что ткань его истончилась. Я помню, какое тогда все было чудесное, как все обещало великие перемены, в какой лихорадке все тряслись каждую осень и каких блаженств ожидали весной, у меня-то это время совпало еще и с отрочеством, с первой любовью и с новыми удивительными людьми, которые появлялись по мере взросления. Вот этой дрожи, этого трепета, ожидания, безумия я в герое не вижу, и мне совершенно непонятно, откуда в нем тоска по вере: вера ведь питается не абстракциями, а живыми впечатлениями. О том, что Бог есть, говорит не чтение правильных книг, а запах осенних листьев или весенний ветер. Впрочем, путь у каждого свой, и я не «Бюро проверки», чтобы экзаменовать Архангельского на чувство эпохи: книга его безусловно важна и для многих сегодня попросту целебна. автор Генезис Гришковца Евгений Гришковец. Театр отчаяния. Отчаянный театр фрагмент обложки Неловко обсуждать своих соседей по короткому списку «Большой книги», но будем считать, что я не конкурент, а просто книжный обозреватель; а книжный обозреватель мимо тысячестраничной книги Гришковца пройти не может. Объем вас пусть не отпугивает, эта вещь читается так же легко, как слушались когда-то его устные монологи, напоминающие рассказ попутчика в поезде. Стоял за ними, бесспорно, огромный труд – и актерский, и авторский, – но иллюзия непосредственности возникала с первого слова. Роман Гришковца – если это вообще называть романом – восемь таких авторских монологов, и если в его моноспектаклях (например в «Дредноутах») герой иногда сильно отличается от автора, здесь дистанция между ними минимальна. То ли в кризисе среднего возраста, то ли в кризисе жанра, то ли осознав переломный характер эпохи, Гришковец оглядывается на весь свой актерский и человеческий опыт, пытается проследить генезис своего театра и, главное, мировоззрения. Человек с абсолютной полнотой выразил себя. А он ведь не просто калининградский (ныне) автор, актер и режиссер кемеровского происхождения, он, что называется, типичный представитель. Так он себя позиционирует и сознает. И вот этого постсоветского человека, рожденного в шестидесятых, опьяненного в восьмидесятых, выживавшего в девяностых, совершенно потерянного в нулевых и вроде как обретшего твердую почву в десятых, Гришковец – на собственном примере и опыте – зафиксировал с абсолютной полнотой. Не скажу, что с беспощадностью – пожалуй, даже и с любованием, – но и это любование со стороны выглядит растерянным и кризисным. И да, конечно, почва, которую он обрел, жалка и убога даже по сравнению с советской; да, его великие иллюзии разбиты, а великие планы смешны ему самому. Но он сохранил главную особенность советского человека – уверенность в том, что малейшие детали его биографии важны, что его быт осмыслен, что все это кому-то вообще нужно. Он написал книгу, которую можно оставить за себя. И если после нее автор стал вызывать у вас, допустим, раздражение – значит, у него все получилось: вы воспринимаете эту книгу как живого человека, а чего еще вправе пожелать писатель? герой Вундеркинд, придуманный мамой и бабушкой Александр Ратнер. Тайны жизни Ники Турбиной Эта книга в рукописи поразила меня так, что я даже написал к ней предисловие, но в нем всего не скажешь. Ника Турбина была последней общей любовью советских граждан, доказательством того, что у нас продолжают расти уникальные люди нового типа, маленькие гении. В результате двадцатилетних исследований и разговоров практически со всеми, кто имел хоть какое-то отношение к судьбе Турбиной, Ратнер выяснил, что ее стихи, по всей вероятности, на 90 процентов к ней отношения не имели. Мама и бабушка отдавали ей собственные тексты и творили миф о вундеркинде, фамилия которого была вдобавок не Турбина, напоминающая о «Белой гвардии», а Торбина. Своего там было – бесконечное обаяние и недетская раскованность, купленная, впрочем, ценой раннего невроза. К пятнадцати годам она была безнадежно изломанным человеком, испорченным и славой, и вниманием всей страны, и ранним опытом, и болезненной обстановкой в семье. Она болела всеми болезнями эпохи и точно так же была обречена. Случайной или сознательной была ее ранняя смерть – Ратнер не знает и вообще нигде не пытается навязать героине собственные мысли; он лишь с бесконечной дотошностью исследует обстоятельства ее жизни – и пишет, в сущности, историю краха империи, последним чудом которой была эта девочка. Более увлекательной, честной и горькой книги мне давно не попадалось, и это лишний раз доказывает, что в России началась – или продолжается – эпоха документального романа: такое не выдумаешь, да и зачем выдумывать, если сама правда настолько красноречива? * * * Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2018.